Национальное воспитание. Словосочетание, на протяжении долгого времени употребляемое у нас достаточно редко. После 1917 года упор делался на воспитание наднационального пролетарского интернационализма и советского патриотизма. А сейчас, слишком уж близко тут провокационный, неполиткорректный национализм, и близкие к нему концептуально шовинизм, ксенофобия, экстремизм, радикализм — далее везде. Так что тема не простая, но для нашего времени с поисками национально-государственной идентичности, повышенным вниманием к сохранению традиционных общенациональных ценностей, культурных традиций, повышенному интересу к различным событиям отечественной истории, крайне актуальная. Что нашло отражение, в том числе, в новой редакции базового закона «О молодёжной политике в Российской Федерации» (и не только в нём).
«Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без неё не может обойтись. Горе тому, кто это думает, двойное горе тому, кто действительно без неё обходится! Космополитизм — чепуха, космополит — нуль, хуже нуля; вне народности ни художества, ни истины, ни жизни, ничего нет. Без физиономии нет даже идеального лица; только пошлое лицо возможно без физиономии», — так, словами одного из своих героев, замечательный русский писатель И.С. Тургенев высказался о трагедии утраты человеком национальной идентичности.
Создание национальных педагогических систем, как на Западе, так и в Российской империи началось в начале 19 века. Именно тогда под влиянием прорывных открытий в научно технической сфере, происходили значимые изменения в экономике, социальной сфере, системе общественного устройства и пр., что в свою очередь оказывало влияние на содержание национальных интересов государств. Национальные интересы — это важно. Они требуют постоянного внимания и защиты (в 19 веке — часто военной). Чтобы достичь успеха, содержание национальных интересов, как и конечные цели должны быть восприняты гражданами, как собственные. В противном случае, вряд ли они будут самоотверженно участвовать в войне, конечные цели которой им не ясны, или являть героические примеры гражданской солидарности.
Ответственность за достижение необходимого конечного результата была возложена на систему образования. «Войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя», — эта крылатая фраза, часто приписываемая Бисмарку, тоже родилась в 19 веке. На самом деле высказывание это принадлежит прусскому учителю, профессору географии из Лейпцига Оскару Пешелю, по поводу одной победы, одержанной прусской армией в ходе австро-прусской войны (очень значимой для немецкого народа, особенно после сокрушительного поражения в войне с Наполеоном, результатом чего стали утраченные территории, разрушенная экономика и система государственного устройства). Звучит оно так:
«Народное образование играет решающую роль в войне…когда прусаки побили австрийцев, то это была победа прусского учителя над австрийским школьным учителем».
Генерал-фельдмаршал фон Мольтке (тоже участник тех событий), уточнил формулировку:
«Говорят, что школьный учитель выиграл наши сражения. Одно знание, однако, не доводит ещё человека до той высоты, когда он готов пожертвовать жизнью ради идеи, во имя выполнения своего долга, чести и родины; эта цель достигается — его воспитанием». «Государство должно заместить духовной силой то, что оно потеряло в физической»
Пруссия поставила на образование и добилась успеха, причем, как в национальном, так и в патриотическом воспитании. И успех этот был признан повсеместно. Например, в Российской империи эта модель образования — «по прусскому образцу в российском варианте», была принята к использованию на государственном уровне, хоть и собрала множество негативных оценок со стороны педагогов и представителей общественных движений.
Как справедливо отметил один из создателей нашей отечественной педагогики К.Д. Ушинский, общей системы воспитания, одной на всех, быть не может. У каждого народа своя история, свои культурные традиции, потому заимствование воспитательных систем невозможно. Нельзя жить «по образцу другого народа, как бы заманчив ни был тот образец, точно также нельзя воспитываться по чужой педагогической системе, как бы ни была она стройна и хорошо обдумана». Русский народ совсем не похож на немецкий и обучающийся по «немецкой копии» школьник «вряд ли будет иметь о своем отечестве настолько высокое и гордое мнение, чтобы не поколебаться в тяжкую годину пожертвовать своей жизнью за родину». Чтобы достичь успеха следовало немецкую копию заменить «настоящей русской школой», обеспечивающей сохранение преемственности и «роста общей культурной традиции», которая и является содержанием понятия национальности.
«Воспитание с социологической точки зрения, есть сохранение преемственности и обеспечение роста общей традиции. Эта преемственность достигается посредством подготовки развивающегося поколения к постепенному усвоению культурной традиции...Таким образом, задача воспитания — сохранение преемственности и обеспечение роста общей культурной традиции».
Такое определение процессу воспитания давали социологи в позапрошлом веке. С другой стороны, общая культурная традиция и является понятием национальности. Таким образом, «понятия воспитания и национальности — понятия логически близкие». А из единства, которое есть результат общности культурной традиции складывается нация — «исторически возникшее культурное единство составляющих ее социальных групп». Это уже из первой книги:
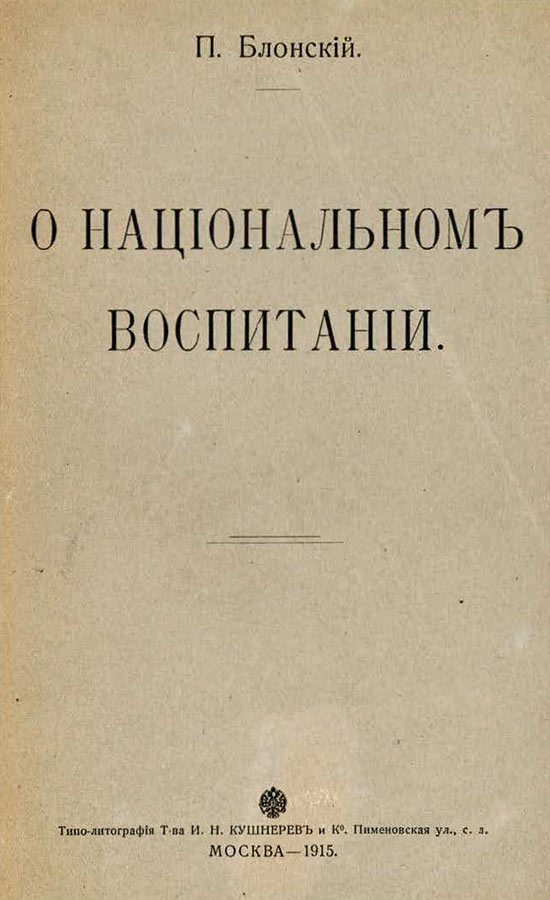
Что тут, по мнению автора главное: непременное условие успешного национального воспитания, это отсутствие «эгоистического самоутверждения». Развивать свою индивидуальность — бесспорная задача как для отдельного человека, так и для нации, но осуществлять свое развитие следует посредством альтруизма, а не эгоизма. Поскольку национальная исключительность ведет «к застою и оскудению, а агрессивный национализм создает враждебную атмосферу». В основном брошюра посвящена организации процесса национального воспитания, во многом опирающегося на положения «народной» педагогики Ушинского. Автор тщательно избегает слова «национализм», заменяя его словом «народность», что в общем было принято в то время и на официальном уровне, поскольку Российская империя была государством многонациональным, и термин «народный» был менее провокационным.
Что касается конкретных предложений по организации национального воспитания, тут Блонский конспективно излагает свою знаменитую концентрическую систему развития ребенка и его обучения. Три этапа (три концентра). Первый — «народническое дошкольное воспитание»: усвоение ребенком национального языка, национальной психологии и национального способа восприятия действительности через знакомство с обычаями, сказками, преданиями и народным искусством (игрушки, песни). Второй этап — «национальная элементарная школа», цель которой — воспитать «интерес к родине, знание родины и национальный вкус» и способность самому создать свой «положительный национальный идеал» (осознание национальной солидарности). Центральное внимание тут уделяется взаимоотношениям человека и природы, регионоведению, сочетающему географию и историю (с акцентом на первой, а во второй необходимо предпочитать биографический элемент с особым вниманием к героям народа), и русский язык, на занятиях которым должны вырабатываться навыки и вкус русского литературного языка. И третий этап — «гуманитарная средняя школа», основная задача которой приобщение ученика к ценностям мировой, общечеловеческой культуры. Что не отменяет национального самопознания, но включает его в широкий контекст мировой культуры (Россия — страна мира). Родная литература, «зеркало родной жизни», должна изучаться, в идеале, каждый день. Здесь изучение родной страны должно вестись сравнительно-историческим методом, чтобы усвоить вместе с тем и лучшие ценности мировой культуры, в частности западноевропейскую литературу, поскольку, «широкое общение с мировой культурой лишь повышает национальное творчество».
Выводы: «современное воспитание русского ребенка не национально (и это плохо) и воля истории всё настойчивее требует преобразования его». При этом, необходимо синтезировать две идеи: идею гражданина родной страны и идею человека, как части всего человечества, всего человеческого рода, — «это и есть лучшее решение проблемы, как параллельного роста двух начал — индивидуальности и солидарности».
Дальше сборник:
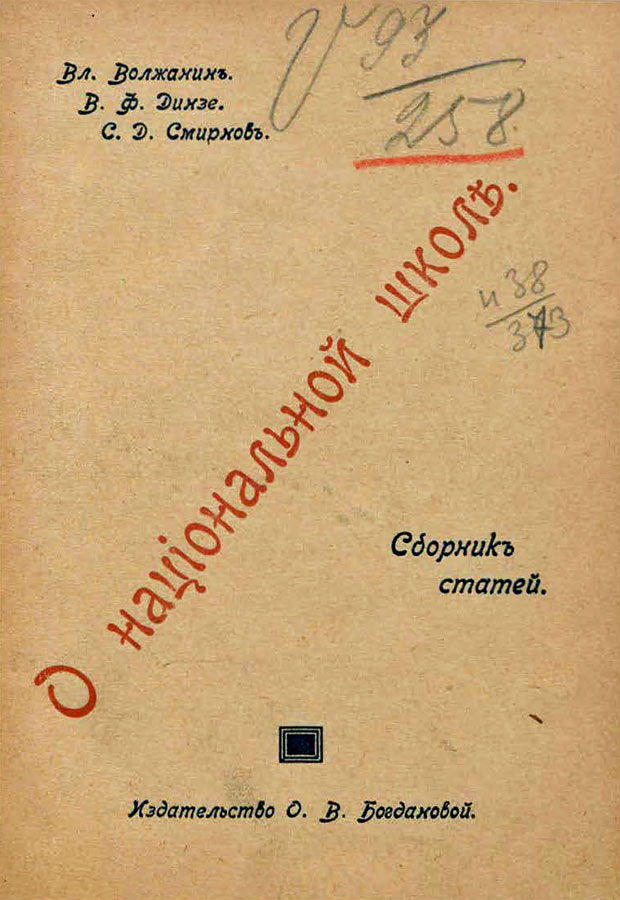
Сборник не слишком объемный, но вполне отражает содержание полемики, о национальном воспитании, которая велась в педагогических кругах. Конечно, живи мы в начале 20 в. (сборник вышел в 1915 г.), мы в первую очередь заинтересовались статьями В.Ф. Динзе — педагога, журналиста, писателя, известного пропагандиста идей национального воспитания: «О нации и национальной идее в педагогике» и «О национальной русской школе». Его спорный тезис состоял в том, что «национальное» в человеке, глубже «классового» (что было очень в духе предреволюционного времени). Главное, это воспитание крепких национальных связей на почве общей культуры и совместной деятельности «в противовес эгоистическим поползновениям класса». Потому усилия школы должны быть направлены в сторону обеспечения национального единства к уничтожению сословной обособленности и классовой розни.
Но сегодня гораздо интереснее статья С.Д. Смирнова «В.О. Ключевский в его понимании национального воспитания». Об оторванности от национальной почвы представителей русской либеральной общественности, которые получив блестящее образование за рубежом, после возвращения на родину демонстрировали полную беспомощность. Ну ничего не могли: ни бороться с неурожаями, голодовками, эпидемиями, нищетой — ничего! Хотя местное самоуправление и землевладение было в их руках. Но дела они предоставляли вести своим уполномоченным, а хозяйство возлагали на приказчика или выписанного из-за границы управляющего, обыкновенно немца. В следствие чего:
«Непонимание действительности всегда развивалось в более горькое чувство — в отвращение к непонятной русской действительности. И чем успешнее русский ум усваивал себе чужие идеи, тем скучнее и непригляднее казалась ему своя действительность».
Совсем не похожая на мир, из которого выросли любимые идеи. Но заняться улучшением этой обстановки упорным трудом, чтобы приблизить её к любимым идеям, это в голову не приходило.
Бессмертная цитата. И таких по тексту статьи щедрой рукой автора разбросано немало. В заключении он отмечает, что хотя профессор Ключевский не оставил нам разработанной системы национального воспитания в школе, в целом он эту идею поддерживал. Проанализировав написанное им на данную тему, становится очевидно, что школа и низшая, и средняя, и конечно высшая должны научить молодёжь знать и понимать Россию и народ; тогда не будет «беспредельно скорбящих лишних людей, чужих между своими, переодетых по-европейски татар».«И почувствовав отвращение к родной действительности, русский образованный ум ощущал себя одиноким в мире; та почва, с которой он срывал цветы идей, была ему чужда, а та на которой он стоял — совсем не давала никаких цветов; и тогда овладела им космополитическая беспредельная скорбь, которая так пышно развивалась в нашей интеллигенции, нашего 19 века».
И ещё статья Вл. Волжанина «Война и школа». Замечательное эссе о том, что такое война, как связана она с национальным самочувствием. О героизме и пацифизме; о том, следует ли рассказывать о войне детям и как лучше это делать.
«Война — это для маленьких, война — это внешний эпизод без внутреннего смысла, война — это шовинизм, недомыслие или коммерция. Ведь даже отечественная война 1812 года является в сущности лишь войной за дворянские интересы, ибо «континентальная блокада» лишила Россию внешнего хлебного рынка и разоряла помещичьи хозяйства», — потому школа отражала общественное самосознание, где быть невеждой в делах войны считалось признаком хорошего тона, и все удовлетворялись «такой незатейливой и простоватой теорией, как пацифизм». Перековать мечи на орала, казармы превратить в житницы, а пушки в утюги. И тогда прекратятся взаимные мучения, реки крови иссякнут и наступит всеобщее благоденствие. Но «вечный мир» невозможен, и в жизни часто вооружением избегают войны, а разоружением ее провоцируют. Всеобщий мир или вселенское сотрудничество — вековечная мечта человечества. Но даже сейчас, когда война критикуется в силу своей экономической бесполезности даже для победителей, она продолжает существовать, — «Договор лишь до тех пор действителен, пока враг из-под пергамента видит острие меча». Дружба народов — пустое самообольщение; полагаться стоит только на себя и только потом на союзы (опирайся на собственную силу и тогда появятся и союзники).
Борьба за существование осталась в прошлом, но кто в борьбе за власть укажет её пределы? Когда люди могут, но не хотят прекращения войны, когда хватает власти, но нет воли. И глубоко, ошибаются пацифисты, смотря на войну как одно только физическое насилие, «калеченье и убийство», поскольку война «не самодовлеющее зло», а только внешнее его выражение, — «Война не создаёт зла, она только его выявляет».
Но всякая ли война заслуживает нравственного осуждения? Дальше читайте сами. Хотя, очень хочется поделиться избранными местами, слишком всё это напоминает день сегодняшний. Ну, пусть ещё одна цитата, в заключение:
«Найдёт ли себе родина в тяжёлую годину стойких защитников среди той молодёжи, которая с детских лет прониклась к войне жутким отвращением? Войной не нужно очаровываться, но ею не нужно и пугать. Упоённость и сюсюканье, волчье сердце и мокрая чувствительность, друг друга стоят…Есть третье решение: видеть вещи такими, каковы они на самом деле. Это с непривычки трудно, но другого выхода нет…Что же хотите вы? — могут спросить нас. — Мы хотим, чтобы при виде полкового знамени ребёнок невольно обнажал свою голову».
И главная книжка обзора, (возвращаем забытые имена):
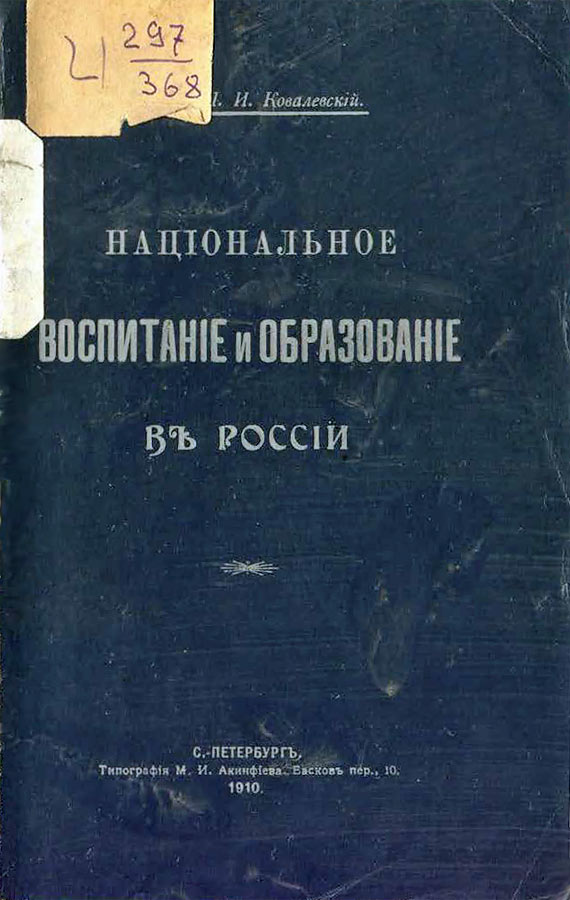
Сначала немного об авторе. Павел Иванович Ковалевский (1849—1931), психиатр, публицист, один из идеологов русского национализма, активный участник национально-монархического движения. В широких кругах русской интеллигенции довольно высоким был авторитет П. И. Ковалевского как историка. Такие его работы, как «Народы Кавказа», «Завоевание Кавказа Россией», «История Малороссии», «История России с национальной точки зрения» до революции выдержали несколько изданий (в советское время не издавались). Революции Ковалевский судя по всему не принял. Хотя точно известно, что после октябрьских событий он, как квалифицированный медицинский специалист был мобилизован в Красную армию, был врачом в одном из отрядов Красной армии. После окончания Гражданской войны вплоть до 1924 г. работал главным врачом психиатрического отделения Николаевского госпиталя в Петрограде. По некоторым сведениям, даже консультировал уже тяжело больного Ленина. В декабре 1924 г. каким-то образом получил разрешение на выезд за границу. Последние годы Ковалевский провел в Бельгии, там же и умер в 1931 г.
Переходим к книге. Там много интересного: наблюдения, анализ событий, выводы, необходимые исторические вставки и пр. Наверное, для начала следует попытаться совсем коротко обрисовать, что такое русский национализм по Ковалевскому. Итак: Россия — величайшее государство в мире (1/5 суши). Великая по пространству она велика и по своей мощи и достоинствам. Для её благополучия важно общегражданское понимание, что Россия создана русскими людьми, и русский национализм — это национализм великой нации. Другие национализмы в России могут быть достойны уважения, если они сочетаются с лояльностью и верностью государству. Но равноправными они могут быть постольку, поскольку заслужат этого своей преданностью и готовностью служить России, как её настоящие, истинные дети. Преимущественные права русских в российском государстве (в широком смысле слова):
«Есть права крови, вытекающие из крови, пролитой нашими предками, права имущественные, вытекающие из затрат наших предков, проценты на которые нам приходится платить и поныне, — права исторических судеб родины, обязующие нас хранить целым и невредимым завоеванное предками».
В России державная господствующая нация — русская нация. И кто желает в России стать равным русскому, тот должен стать духом русским. А тот, кто осмелится в России идти против России (будь он, хоть кто), тот лишается всех прав, которыми пользуются русские. И дело руководителей и учителей в российских школах донести эти знания до российских детей:
«Сознание достоинства быть русскими должно создать новое условие в деле воспитания — сознание своего долга русского гражданина».
Как признанный теоретик русского национализма, Ковалевский является автором общепринятых базовых формулировок в этой области (нация, национализм, национальное чувство, национальное самосознание).
«Нация — определенная группа людей, объединенная единою территорией, единою верой, единым языком, едиными физическими и душевными свойствами, одною культурою и одними судьбами».
Причём физическим и душевным свойствам, культуре и общей исторической судьбе он придавал особое значение, большее, чем территории, религии и языку;
Понятие «национальность», трактовалось Ковалевским как «собрание свойств и качеств, присущих той или иной нации», и отличающих ее от других наций.
«Национализм — это проявление уважения, любви и преданности, до самопожертвования, в настоящем, почтение и преклонение перед прошлым и желание благоденствия, славы, мощи и успеха в будущем той нации, тому народу, к которому данный человек принадлежит».
«Национальное чувство есть прирожденная принадлежность физической и душевной организации. Оно инстинктивно. Оно обязательно. Национальное чувство прирожденно нам так же, как и все другие чувствования: любви к родителям, любви к детям, голода, жажды и т. д…».
«Национальное самосознание есть акт мышления, в силу которого данная личность признает себя частью целого, идет под защиту и несет себя само на защиту своего родного целого, своей нации».
Ковалевский не смешивал национализм и патриотизм и считал это принципиальным: «Национализм есть беспредельная любовь и готовность к самопожертвованию за свою народность, — а патриотизм — такая же любовь и готовность к самопожертвованию к родине и отечеству». Национализм — понятие антропологическое, а патриотизм — географическое, общее. В каждом государстве может быть только один патриотизм и несколько национализмов.
Серьезное и постоянное внимание Ковалевский уделял содержанию системы русского национального воспитания. Что непременно должно туда входить: во-первых, реальное образование, дающее детям «точные и серьезные знания той природы, которая вокруг нас и у нас под ногами». Это необходимо для того, «чтобы мы умели использовать и употребить на свои нужды всю окружающую нас природу». Во-вторых, строжайшее руководство «особенностями и основными качествами нашей нации». То есть развитие полезных качеств, привычек, взглядов, усвоение традиций и пр. и искоренение качеств бесполезных и вредных («уничтожать то, что является в нации… бесполезным и вредным»). В-третьих, воспитание в ребенке душевных, духовных и физических качеств, которые «присущи и свойственны той или иной народности» (отметим, не только русских, любой народности).
Кстати, комментируя пресловутое высказывание о победе прусского учителя, Ковалевский, подчеркивает, что он одержал победу именно потому, что все немецкие учителя «были национальны и патриотичны».
Национальным и патриотичным обязан быть и русский учитель. Причем патриотизм Ковалевский ставит выше образованности, хотя знания, особенно отечественной истории и литературы, «дают силу». Человек не слишком образованный, но самоотверженно любящий родину, предпочтительнее образованного, но презирающего и не уважающего свою нацию, поскольку знания всегда могут быть пополнены, а перевоспитать отщепенца гораздо сложнее.
Отечественная история по Ковалевскому вообще самый главный предмет. Её должны знать все. Но не историю фактов, а историю духа русской нации, процессов ее развития и совершенствования. Причём не формально, а эмоционально, от всей души, искренне проникнуться величием достижений своей родины, а также знать помнить и ценить подвиги героических предков. Своих предков, а не древних греков, римлян или иных иностранных героев, — «позорно знать весь мир и не знать родины».
Отдельное место уделено общественному национальному воспитанию, которое «должно состоять в проведении в жизнь во всех местах государства и во всех слоях общества духа любви, преданности и блага русской национальности и отечества. Этому должна служить вся государственная администрация, все государственные и общественные учреждения, пресса, литература и все гражданские стороны жизни...».
И главный результат — граждане, воспитанные в национальном духе, которые не стесняются своей русскости, уважают себя, («уважение к себе даёт почву для уважения и доверия к другому, — а любовь к родине обязывает к поддержанию единения, общения, единства и взаимоуважения»), и при необходимости смело и открыто защищают свое национальное достоинство «против наглых и открытых выпадов, оскорблений и унижений».
Конечно, с позиций принятых сегодня границ политкорректности, не все тезисы Ковалевского выдерживают критику. Собственно говоря, критиков было достаточно и среди современников (особенно среди представителей либеральной общественности), которым Ковалевский всегда давал отпор:
При этом, отмечал он, в их числе были не только русские по крови, но «и русские из инородцев», которые отдавали всецело свою жизнь на служение России. Только такие люди имеют право называться русскими, «сынам Великой России и пользоваться всеми правами русских граждан», а «те из русских кои осмеливаются злословить свою мать Россию, кои желают ей зла, кои решаются, живя в ней действовать во вред ей — это уже не русские. Это — враги России».«„Русские националисты —людоеды“… так говорят инородцы, ненавидящие Россию и желающие ей зла. Так говорят некоторые коренные русские, или продавшие душу врагам отечества, или люди необразованные, или люди глупые. Русские националисты — люди, в действительности всей душой любящие свою родину и свою нацию, уважающие ее прошлое и желающие ей славы, мощи и величия в будущем».
Национальное воспитание, это средство сплотить нацию:
«Пусть каждый помнит, что достоинства одного не затрагивают достоинства другого и каждый из нас сын одной матери, служащий ей и равный всем. Единение — сила, пусть эти слова будут нашим девизом, рознь и ссоры — великое несчастие и покрывающий нас позор <…> Но это дело отдалённого будущего. А пока русские должны стать прежде всего русскими. Россия для всех русских и все русские для России. Великая задача наших педагогов настойчиво культивировать в русских детях их русские национальные черты и устранять всё, что будет их увлекать на почву космополитизма».